
Павел Руднев
Театральный критик, помощник художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова и ректора Школы-студии МХАТ по спецпроектам, преподаватель. Кандидат искусствоведения. Окончил театроведческий факультет ГИТИСа, специализируется на современной драматургии. Член жюри драматургических премий.
— Начну с глобального вопроса не про театр, а про игру как таковую. «Специалист», из которого система образования выбивает творческий подход и потенциал, который делает только то, чему его научили, теперь не особо востребован, а игра как раз учит адаптироваться к переменам. Кроме того, мы живем в глобальном мире — межкультурном и междисциплинарном — и нуждаемся в некоем поле, где, грубо говоря, физики могут общаться с лириками, граница между которыми тоже стирается. Это поле — культура, система взаимоотношений, которая возникает в игровом процессе. Игра в принципе свойственначеловеческой природе. Что вы думаете по поводу актуализации игры как образовательного формата? Что наблюдаете?
— ХХ век поставил перед искусством задачу изучения безгранично разнообразных способов восприятия. Интерес художника сместился: важно не столько диктовать миру свои художественные стратегии, а учитывать в процессе создания произведения чужое восприятие, работать с ним, изучать, как действует этот механизм. Эта тема стала главной для любой культурологической и антропоцентрической практики. Как человек по-разному воспринимает этот мир, и как нам эти восприятия учесть? Как понять восприятие другого? Не навязать свою модель, а распознать чужой способ восприятия мира? Поэтому ХХ век в большей степени интересовался аномалией, нежели нормой. Но и искусство чаще всего направлено на изучение аномального, крайностей, а не типического. С другой стороны, к тому же самому подводит важнейшая технология, которая была изобретена на рубеже прошлых веков, — фрейдизм, который открывает потаенный ресурс внутри человека, расшифровывает бессознательное. Фрейд говорит, что психоанализ действует лучше всего, когда ты сам себе психоаналитик, когда методология анализа становится повседневной бытовой практикой, как измерение температуры. Психоаналитик не является доктором в нашем понимании, он не выписывает стратегию выздоровления и вообще не вторгается насильственно в сознание и подсознание пациента. Запрещено даже его касаться. Аналитик разговаривает с тобой таким образом, что ты лечишь сам себя, он раскрывает скрытый внутренний потенциал человека. Эта модель полностью переворачивает модель искусства, меняет отношения внутри конвенции «художник — зритель». Художник больше не хочет быть диктатором смыслов, организатором чужого восприятия. Он запускает в зрителе механизм рефлексии и самоанализа.
Когда сегодня к театру предъявляют претензии вроде «вы мне не дали никакой стратегии в финале, вы распахнули передо мною житейский ад, но не показали тропинку наверх», то это претензия, безусловно, из ХIХ века. Потому что перед современным художником не стоит вопрос предъявления какой-то стратегии. Современный художник (и это вторая причина, почему игра важна сегодня) знает политическое наследие ХХ века, главный итог двух мировых войн — даже не столько антифашизм и антимилитаризм, сколько отказ от любых коллективных форм спасения. Это Бродский гениально формулирует в нобелевской лекции: «Скорее всего, мир нам уже не спасти, но спасти одного человека можно». Этим и занимается сегодня искусство, не предлагая коллективных стратегий («В рай стадом не войти»), потому что за каждой коллективной формой стоит потенция тоталитаризма. Каждая доктрина, обращенная к народу, нации, общности, может перерасти в тоталитарную агрессию. Искусство занимается индивидуальностью. Как только ты начинаешь изобретать рай для всех, он быстро превращается в газовую камеру или тюремную клетку. Поэтому искусство, понятое как игра, дает нам возможность заставить зрителя работать над изобретением своей собственной стратегии выживания. Как тот психоаналитик, включающий механизмы, которые существуют абсолютно у каждого в сознании, запуская тем самым какую-то внутреннюю реакцию. Художник передоверяет зрителю функцию понимания.
«Театр показывает бесконечную изменчивость человеческой природы, ее неоднозначность и неопределенность»В этом смысле театр сегодня отказывается от дидактических форм общения со зрительным залом, переходит к игровой коммуникативной модели. Очень точно и ясно это формулирует Ханс-Тис Леман в книге «Постдраматический театр». Все очень просто. Драматический классический театр — это театр-story, то есть театр сюжета, который всегда имеет линейность: завязку, развязку и вывод. Автор здесь ведет зрителя по лабиринту, который он сам изобрел, без возможности самостоятельного поворота. Художник как манипулятор. Постдраматическая культура — это театр-game. Театр как игра. Художник предлагает варианты с неоднозначным смыслом, а зритель выбирает. Это разрозненные фрагменты реальности, рассыпанные по полу детали Lego, которые можно собрать как угодно. Хотя Lego, наверное, не очень хороший пример, потому что он всегда собирается в…
— Что-то определенное.
— Да, вот если б перемешать несколько разных наборов Lego и убрать схему сборки, то похоже. Это важно с точки зрения культурологии.
— Театральная педагогика возникла в 70-х годах, через какое-то время отделилась в отдельную дисциплину и в последнее десятилетие очень активно развивается в Европе, в частности в Германии. БДТ в Петербургском педагогическом университете делает нечто подобное. Как театральные инструменты применяются в образовательной сфере?
— Я не очень хорошо знаю про Запад, готов говорить про российский опыт. Здесь, мне кажется, есть два очень важных момента. Нагляднее всего это происходит в так называемом инклюзивном театре — театре, который работает с людьми с ограниченными возможностями. Это и есть одно из проявлений интереса к аномалии как таковой. С одной стороны, мы здесь воспринимаем театр как арт-терапию, инклюзию — вхождение человека с ограниченными возможностями в общую систему, что помогает обществу стать более цельным и чувствительным к боли «иного», а человеку с ограниченными возможностями адаптироваться к миру. Что делает инклюзивный театр именно искусством? То, что мы через контакт с людьми с совершенно другим восприятием изучаем их опыт, их художественное мышление, лишенное зачастую стереотипов
«большого мира». Неслучайно искусство последних лет очень пристально смотрит на аутизм как на социальный феномен (равным образом как и на феномен синестезии как аномального восприятия). Социофобия становится очень серьезным моментом размышления сегодняшнего художника.
Это проявляется не только в авангардном театре и искусстве, но и в массовой культуре. Например, широко известен роман Марка Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки» — в Москве можно увидеть спектакль в
«Современнике», а также он стал поводом к одному из самых посещаемых мюзиклов Вест-Энда (за три месяца нельзя купить билеты). Мюзикл действительно очень крутой и современный, в нем на примере аутизма связывается то, о чем вы говорите: технический вопрос и искусство. Мальчик-аутист воспринимает мир через алгебраические величины, через мир цифр, одновременно и рациональный, и иррациональный. Мы видим нелинейные, неевклидовы способы восприятия — в том числе и наглядно: через сценографию, устройство сцены. Аутизм — совершенно инаковый способ измерять время и пространство, лишенный наших социальных конвенций.
Другой пример — значимый спектакль «Отдаленная близость» Андрея Афонина в Центре драматургии и режиссуры со студией «Круг II». Это российско-немецкий проект, созданный вместе с Гердом Хартманном, режиссером, который много лет занимается инклюзивным театром. Мы одновременно видим на сцене людей с ограниченными возможностями и профессиональных танцовщиков, которые являются дублерами основных исполнителей. Это театр, где тексты, написанные аутистами, ложатся на пластический рисунок, который напоминает современную хореографию. Действие происходит на фоне ярких задников, которые демонстрируют краски советского авангарда 20-х годов. Это танец на двоих, где один человек поддерживает другого. И это становится как эстетическим феноменом, так и наглядным инструментом адаптации, поддержки общества. Это еще и разговор о невозможности достижении совершенства: мы узнаем себя в перформерах, потому что всегда стремимся быть похожими на некий образец, но никогда не можем его достичь. «Человек — это бог на протезах», — говорил Ницше.

Валентин Серов. Портрет Марии Ермоловой. 1905 год
Еще один, более наглядный пример — спектакль «Майская ночь» Каролины Жерните в театре кукол на Спартаковской. Это театр кукол для слепых. На сцене стоят восемь кресел, на них сидят люди с ограниченными возможностями зрения. Артисты разыгрывают гоголевскую повесть прежде всего для них с помощью аудиоэффектов, движений, запахов, прикосновений, брызг и текста. Помимо партера из этих восьми человек в зале есть и обычный партер, откуда следят за восприятием восприятия, за тем, как искусство влияет на людей, как обществу можно взаимодействовать с людьми с ограниченным зрением. После спектакля была дискуссия, на которой зрители говорили об уникальном опыте, о чувстве, которое они испытали впервые. Этот опыт восприятия чужого восприятия помогает нам осознать, как чувствует мир другой человек.
Еще в прошлом году была лаборатория инклюзивного театра с участием разных школ — Школы-студии МХАТ, Щукинского училища, ГИТИСа и артистов инклюзивного театра. Самой интересной получилась «Женитьба», сделанная режиссером Михаилом Фейгиным с ГИТИСом. Гоголевская пьеса — о чувстве сиротства, богооставленности, которое есть у русского человека. Он как вечный сирота, который не может найти себе пристанище. Бесприютность героя, его безотцовство, в каком-то смысле. Это разговор о том, как один человек не слышит другого, как он его не принимает. Гоголевским героям (всем без исключения, женихам и невесте) свойственно ощущение несовершенства собственной природы, ущемленности. Осознание этого и делает их неспособными к коммуникации. Они так стесняются своей «ущербности», что не способны пойти на контакт с противоположным полом. Когда актриса перечисляет «если бы мне нос Яичницы соединить со ртом Подколесина», становится очевидно, что этот психоз, связанный с недостатками телесности, касается всех нас. Мы все — в тисках глянцевой культуры, все переживаем несовершенство нашего тела. Переживания человека с ограниченными возможностями — это наши же неосознанные переживания, которые эти люди обостряют — говорят о проблемах, касающихся всего общества. Это важный вывод, который может предъявить инклюзивный театр очень многим людям, которые отказываются считать такой театр искусством. Но опыт доказывает, что можно совмещать образовательную технологию и художественные приемы.
Читать дальше.
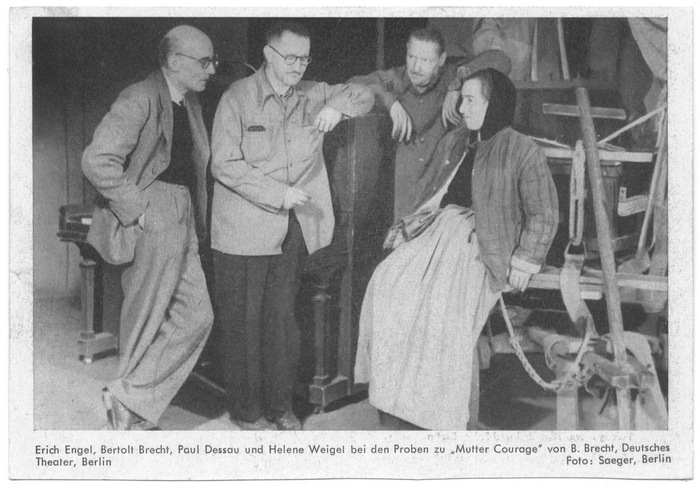
Комментарии:
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв