После лекций «Формирование сострадательных повествований» и «Идентичность и общественная взаимозависимость» «Теории и практики» встретились с ним, чтобы поговорить о сторителлинге как способе познать мир и подлинном «я», от поисков которого рано или поздно придется отказаться.
— Вы преподаете писательское творчество студентам Политехнического института Нью-Йоркского университета и в своей лекции, посвященной формированию сострадательных повествований, упоминали задание, которое дали своим ученикам. Во время занятия они должны были создать и описать какой-либо персонаж. У многих получился тип существа, полностью зависимого от человека, неспособного самостоятельно создать собственную историю или жить своей жизнью. О чем это говорит?
— О, тут можно сделать много выводов. Например, есть некоторые студенты, которые создают существа, вообще не наделенные сознанием, которые могут только служить человеку. Другие же придумывают, по сути, кукол: аватара, животное-поводыря или даже монстра-поводыря, — в общем, кого-то близкого человеку. Есть те, кто пытается выйти за привычные рамки и создать какого-то метаперсонажа, обычно обыгрывая идею самого элемента сознания и пытаясь выстроить что-то вокруг нее. В основном это все. Это вызывает у меня смешанные чувства, потому что мне нравится наблюдать, как студенты бьются над своими проектами, но я также хочу, чтобы у них получилось что-то новое, что-то, что могло бы нас представлять как сообщество, что говорило бы: «Вот в каком направлении должен развиваться дизайн, вот каким он мог бы быть». Все они молоды и все еще находятся в процессе изучения дизайна — как и я сам. По-моему, в этом и есть смысл нахождения в таком пространстве, как университет. Я начал задаваться вопросом: в какой момент у нас появляется мысль о том, что природа или все, что мы видим вокруг себя, должно существовать в подчинении у человека или требовать нашего господства? Тут важно выстроить тему каждого семестра так, чтобы мы могли свободно рассуждать о том, как люди пытаются доминировать над явлениями, которые они не понимают.
— В последнем «Чужом», кстати, у меня было ощущение, что Ридли Скотт проявил к своим монстрам гораздо больше сочувствия, чем к человеческим персонажам. Люди в фильме очень наивны и как будто даже недостойны сопереживания — по крайней мере только благодаря своему преимуществу рождения человеком; им приходится конкурировать.
— Ага, это, кстати, имеет смысл и для меня лично — в детстве мне всегда больше нравились злодеи, чем герои. В диснеевских фильмах у злодеев всегда были лучшие песни, плюс это были самые смешные и необычные персонажи. В итоге это повлияло на все, чем я занимаюсь сейчас. В лицах меня обычно привлекают те черты, про которые говорят «Их сложно полюбить», а научной фантастике я обычно предпочитаю хоррор и фэнтези. В

Фото: Андрей Носков
— То, что мы обычно в себе подавляем и не признаем.
— Именно. Так как же нам сделать эти черты узнаваемыми? Нужно подчеркнуть потребность такого существа в существовании. Подчеркнуть, что его существование столь же справедливо, как и человеческое. Это очень сложная задача, потому что мы неосознанно чувствуем превосходство над всеми естественными и сверхъестественными вещами, которые, как нам кажется, мы можем спасти, уничтожить или использовать. Нас тревожит существование чего-то, что обладает автономностью в принятии решений. Так что если мы хотим показать такого персонажа убедительно, то должны научиться сопереживать злодею или монстру. У него должна быть своя собственная жизнь, своя история, и эта история не должна опираться на существование человечества.
Есть латинская фраза, которую я часто говорю студентам: «Homo non intelligendo fit omnia». Мы довольно грубо переводим ее так: «Человек, не сознавая, воссоздал себя во всем». Потом в течение семестра мы обсуждаем разные способы интерпретации этой фразы. Например, когда люди сталкиваются с
Мы отбирали и разводили много различных животных, чтобы вывести один главный вид, который обеспечивает нас наибольшим количеством мяса, и мы продолжаем его поддерживать и воспроизводить. Или, к примеру, домашние животные: на занятиях мы говорим о породистых собаках и котах, которые так долго воспроизводились в результате родственного спаривания, что теперь даже дышать не могут самостоятельно. Возьмите бульдогов или мопсов: в результате инбридинга с течением времени их носовые полости просто сплющились. Или все эти породистые животные, у которых сердца не могут элементарно качать кровь. Им же недоступны самые простые и естественные вещи: они не могут бегать или даже просто сильно волноваться! Это все результаты влияния человека на природу. Мы обсуждаем различные болезни, которые передались от животных людям из-за сельскохозяйственного вмешательства человека. Или мы можем говорить о том, как люди приняли решение кормить скот чем-то, что животные никогда раньше в пищу не употребляли. Их пичкают какими-то продуктами, которыми традиционно питаются люди, в результате чего бактерии проникают из кишечника животного в кишечник человека, а это приводит к возникновению эпидемий.
Чаще всего мне кажется, что это очень опасно, грустно и сложно. Студенты часто спонтанно воспроизводят те же самые модели страдания и угнетения, потому что просто не знают, как выйти за рамки этой системы. Это не воспитывается одним преподаванием. Размышляя о таких вопросах, человек не может вдруг сказать: «А, теперь я понял, все готово». Я видел такие традиционные модели в некоторых играх, которые сделал сам! Даже когда кто-то утверждает, что никогда не воспроизведет определенные виды актов насилия, мы видим в действиях персонажей поведение, которое ассоциируется с нашими худшими представлениями о человечестве. Именно поэтому меня как педагога и художника привлекает не только то, как на самом деле обучать сопереживанию, но и то, как заставить людей прочувствовать это на своем личном опыте.
«Трудно выиграть игру об изменении климата, бедности или неспособности владельца малого бизнеса прокормить свою семью»
— То есть такие игры для вас — это инструмент, который должен помочь людям прочувствовать, что происходит? Что-то вроде мрачного предупреждения о том, что происходит?
— Существует традиция создания игр, которые могут повлечь какие-то позитивные изменения в обществе. Есть различные организации — такие, как Games for Change, например, которые уже 10 лет пытаются делать игры, которые бы вызывали эмпатию, сопереживание или восприимчивость к вопросам, с которыми люди не близко знакомы. Такие проблемы, как нищета, изменение климата или пограничный контроль, с которыми некоторые не сталкиваются напрямую, посредством игры помещаются непосредственно в их личное пространство. Проблема в том, что такие игры зачастую не очень увлекательны в традиционном игровом смысле. В них не очень весело играть, неинтересно смотреть, как в них играют другие, и в них неинтересно играть повторно. Они могут быть интересны как почти статические произведения искусства, но в них отсутствует динамика. Они не заставляют людей подняться и узнать больше о
Некоторые из этих игр прекрасно сделаны, но после того, как вы сыграете в них один раз, вы останетесь в настолько угнетенном состоянии от моральной тяжести темы, что просто не будете знать, что делать дальше. Я думаю, что такая ситуация складывается отчасти потому, что эти игры пытаются говорить о вещах на очень высоком уровне, даже в эмоциональном плане. Они поднимают вопросы типа «Как мы это исправим?» или «Таким и бывает страдание?». Важно осознать, что абсолютно все люди играют в игры, даже если они не хотят это признавать, они все равно в них играют. Так? Физические игры, словесные игры, невербальные игры, эмоциональные игры — мы все в них играем.
Красота самой идеи игры в том, что два незнакомых друг другу человека, не обязательно увлекающихся играми, могут делать что-то вместе — и это будет весело. В этот момент у них появляется опыт, который они никогда не смогут воспроизвести с
Есть примеры довольно смелых игр, основанных на реальной жизни, которые подходят к сложным для обсуждения вопросам с уважением и сопереживанием, а часто и с умом. Такие игры, как That Dragon, Cancer Эми и Райана Грин, или Mainichi Мэтти Брайс, или Papers, Please Лукаса Поупа. И есть другие игры, сюжет которых извлекает из социального контекста только общие мрачные реалии: например, гениальная Kentucky Route Zero или Inside студии Playdead.

Кадр из игры That Dragon, Cancer
— А вообще насколько сильно технологии и интерактивность влияют на силу воздействия этих игр на людей?
— Ничто не может сравниться с телесностью присутствия другого человека рядом с нами или хотя бы с телесностью физического прикосновения. Сейчас мы пытаемся приблизиться к воспроизведению такого рода тактильности. Для этого разрабатываются технологии виртуальной реальности, дополненной реальности, умной одежды. Они пытаются привнести телесный опыт в бестелесное виртуальное пространство интерактивной игры. И вот насколько мне нравится думать об этом, играть с этой идеей, настолько же сложной я нахожу возможность ее реализации в жизни.
Что происходит, когда вы просто объединяете людей в пространстве? Что происходит, когда вы помещаете людей в определенное место и говорите им: «Так, вам двоим нужно шептать что-то друг другу на ухо, вам двоим нужно водить хоровод, а вам нужно сделать что-то еще»? Возможность такой близости очень важна для людей: так легче понять, что кто-то, кого они считали супердалеким от себя, может быть любящим спутником, другом, знакомым, соведущим, дизайнером и т. д. Я считаю, что ничто не может заменить это ощущение. В технологии есть другой способ добиться того же результата, и у каждого человека свой подход к тому, насколько он вовлечется в итоге в историю. Поэтому нам и нужны все эти разные каналы коммуникации.
— Я пытаюсь понять, что вы подразумеваете под «историей» и «сторителлингом». Какова связь между историей и понятием истины?
— Именно с этого вопроса я обычно начинаю свои занятия и поэтому не думаю, что на него есть простой ответ. Я всегда пытаюсь подтолкнуть студентов к тому, чтобы они думали по-другому. Верю ли я в истинность утверждения или нет — несущественно. Я вхожу в класс и говорю: «Истины не существует. Нет подлинности. Нет чистоты. Ни у чего нет собственной сущности». Под историями я подразумеваю переплетающиеся и постоянно воздействующие друг на друга способы познания чего-либо: через взаимодействие с другими, через механизмы повествования как таковые, через игры, фильмы, книги, устные рассказы, которые мы слышим от наших друзей или семьи, учителей, то, как мы видим мир в целом. Все это истории, которые мы интегрируем в нашу жизнь, в наши тела — как нормальные или не нормальные. Это рассказы об этике и нравственности, о правильном и неправильном. Это рассказы о том, что возможно, о потенциале.
Я стараюсь войти в аудиторию и сказать что-то, во что некоторые из моих студентов могут поверить или не поверить, но, что важнее, они могут не понять, что с этим делать. Вот простая для моего понимания фраза, которая может оказаться не такой простой для моих учеников: «Гендер — это концепция. На самом деле его не существует». Если вы подойдете с этим к группе студентов-ученых, максимум, что они могут сказать: «Ну да, я, конечно, достаточно молод, чтобы понять это, но, честно говоря, не вижу в этом особого смысла». И потом мы начинаем говорить о дуальности: о том, что мужественность и женственность — это идеи, которые были выстроены с течением времени. Я привожу им примеры. Я показываю им видеоигры, которые строятся вокруг вопросов маскулинности и феминности. Я даю им истории: например, настоящие письменные тексты XVI века. Мы говорим о том, какие гипермаскулинные качества проявляются по отношению к женщинам, а какие гиперфеминные стереотипы присутствуют у мужчин. Потом я даю концепции, которые полностью разрушают эти ассоциации, и привожу примеры тех сообществ, которые выходят за пределы этой двойственной системы. Я говорю: «А как насчет этого?» Когда они начинают сдавать позиции и говорить: «Ну, это существовало только в
«Я ставлю перед своими студентами задачу подвергать сомнениям те способы, которые определяют наш вектор развития как созидателей»
Мы начинаем собирать что-то вроде коллекции рассказов — то, что авторы Чимаманда Адичи и Чинуа Ачебе определяют термином «баланс историй». Понятие истины становится очень размытым, когда вы выбираете одну историю и начинаете думать о ней как о
— То есть осведомленность о многообразии всех этих историй может позволить нам свободно выбирать?
— Именно. Свобода выбора, как вы сказали, это отличный принцип, формулирующий суть моей работы. Наша способность задаваться вопросом о том, что такое взаимодействие, что такое нарратив и какое значение в сторителлинге имеют моменты взаимодействия, и лежит в основе моего учебного курса. Мы всегда приходим к выводу о том, что центральной здесь является идея выбора; что, если вы когда-нибудь захотите иметь возможность для шага вперед, у вас должен быть выбор. Чтобы иметь выбор, вы должны осознавать, что есть и другие варианты. Чтобы быть в курсе, что есть другие варианты, вы должны позволить себе создать внутреннее пространство, где даже самые сильные убеждения будут подвергаться сомнениям. Так что на пути к осознанию, что у вас есть выбор, много различных шагов. Даже в самых незначительных вещах — например, что съесть на обед. Если вы считаете, что можете приготовить только одно блюдо, и приготовить его очень хорошо, и это единственное, что вам нужно, и вы не из той семьи, в которой для вас готовили и вдохновляли вас делать это самому, вы, вероятно, будете противиться импульсу попробовать что-то иное. Но вы все-таки можете попробовать что-то иное. Таким образом, я ставлю перед своими студентами задачу подвергать сомнениям те способы, которые определяют наш вектор развития как созидателей, как людей, увлеченных историями. Вопрос в том, как из этого состояния сопротивления и страха мы приходим к состоянию, в котором можем делать все, что захотим.
*— Если спроецировать этот принцип на истории, которые мы рассказываем о себе сами, получается, что подлинное «я» существовать не может? *
— Я думаю, что это часть того, что значит быть человеком, — необходимость признавать тот факт, что мы постоянно учимся и меняемся. В этом смысле построение, или поиск какого-то одного истинного «я», как ни странно, нас ограничивает. Это может раздражать, так что во многих сообществах личностного роста и саморазвития говорят: «Живите своим подлинным «я», найдите свое подлинное «я», живите своей истиной». Но что если вы ограничите себя мантрой «Это моя правда» и все вдруг поменяется? Чтобы достичь состояния гармонии с самим собой, вам необходимо пройти все эти стадии внутреннего конфликта и допустить, что ваш личностный рост состоит из разных идей о том, кем вы хотите быть, или представлений о том, чего вы хотите, и все они разные, и все они постоянно меняются. Или ваши взаимоотношения с людьми: теми, которые были вам очень близки в один момент и с которыми вы разошлись в другой период времени. Вещи меняются. Это естественно, и именно это делает нас живыми, делает нас людьми.

Фото: Андрей Носков
Даже к поиску собственной аутентичности я подхожу с долей иронии, потому что я типичный черный американец, представитель культуры, в которой смешались много разных людей, сообществ, этнических и расовых групп, и это означает, что в моей собственной истории есть много противоречивых моментов. Что же тогда означает быть самим собой? Черные люди в США вкладывают особое значение в собственную аутентичность. В
Такому человеку, как я, недостаточно одной только аутентичности, связанной с родословной и генеалогией. Поэтому я предпочитаю думать так: «Я вырос как некая личность, и осознание и изучение других вещей о себе не отменяет этого факта, а дает мне возможность говорить о том, что мои «я» многообразны и многочисленны, я представляю из себя много того, что не кажется логичным, и не казаться логичным тоже нормально». Ограничения, которые мы связываем с проживанием «истинного себя», могут приводить к депрессиям и другим типам психологических расстройств, если не допускать гибкости и подвижности.
«Я считаю, что «подлинный», «истинный» и «чистый» язык — язык материализма — может быть очень разрушительным»
— Вообще, это распространенная проблема — депрессия по поводу того, мы недостаточно аутентичны, не нашли своего «я» и проживаем «не свою» жизнь.
— И как бы относительно кого мы вообще должны быть аутентичны? Если вы узнаете, что произошли от нескольких видов людей, к какой культуре вы будете тяготеть, с кем обнаружите родство? Если вы решите, что вот ваша сексуальная ориентация, гендерная идентичность, экономическое пространство — куда вы обратите свой взгляд в поисках зоны комфорта? Люди, которых нельзя отнести к той или иной категории, постоянно мечутся между разными пространствами, и это изматывает. Где же найти сообщество для таких людей? Где сообщество для людей без гражданства, без земли и без принадлежности к нации? Людей, которые находятся между социальными пространствами: ненормальных, фриков? Где это пространство? Сложно в нем находиться, когда чувствуешь, что ты такой один. Вот почему я считаю, что «подлинный», «истинный» и «чистый» язык — язык материализма — может быть очень разрушительным.
Встает вопрос: «Кто мы, если все мы — истории, а истории постоянно изменяются?» Размышляя над ответом, нужно помнить, что мы постоянно меняемся, и поэтому, по крайней мере, мы должны отдавать себе отчет в том, почему и как мы меняемся. Нам также необходимо четко осознавать, что в этом же процессе находятся и другие люди. Если мы страдаем и стремимся избавиться от страдания, другие люди — тоже. В этом основа сострадательных практик — того, чем я занимаюсь. Каждый из нас находится в одинаковом состоянии постоянного переосмысления себя и изучения вопроса о том, кем он является в каждый из моментов своего бытия. Подобно тому, как наши тела постоянно меняются, мы меняемся вместе с ними. И все же мы себе этого не позволяем, потому что человеку очень трудно прожить день и задать себе вопрос: «Если завтра я не буду таким же, как сегодня, то кем же я буду?»
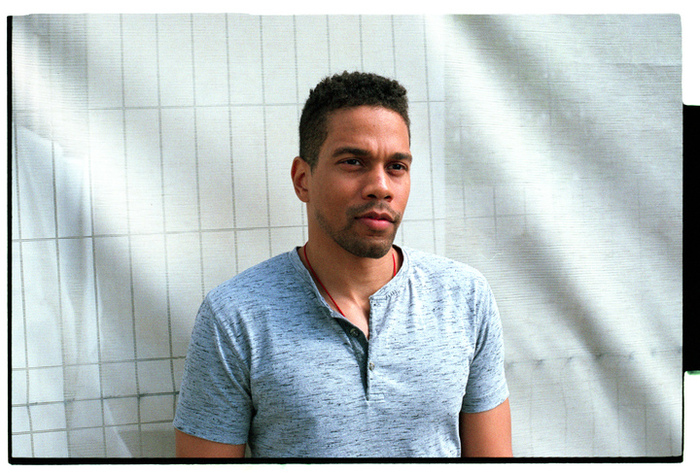
Комментарии:
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв